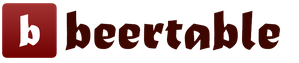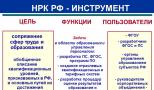Читать книгу «Конёк-горбунок» онлайн полностью — Пётр Ершов — MyBook. «Конек-горбунок» главные герои Характеристика героев “Конёк-горбунок”
Сказка П.П. Ершова "Конек–Горбунок" пользуется заслуженной популярностью вот уже почти 200 лет, будучи впервые опубликованной еще в 1834 году, не без помощи самого А. С. Пушкина. Он одним из первых прочитал это произведение, и настолько высоко его оценил, что лично помог еще неизвестному тогда Ершову с издательством книги, тем самым введя автора в поэтические круги того времени. И ведь не ошибся – эта сказка не зря вызывает большой интерес как среди детей, так и взрослых. Сюжет настолько увлекательный, что начав читать книгу, уже невозможно будет оторваться, пока не дочитаешь ее до победного конца, ведь главный герой – Иван, как будто и дня не может прожить, чтоб не попасть в очередную историю.
Очень часто Ивана называют дураком, начиная с его собственной родни -отца и двух старших братьев, заканчивая царем и придворными. Что с одной стороны и понятно, ведь в начале книги показано, что больше всего ему нравится валяться на печи и есть, не особо заботясь о других вещах. Да и найдя перо Жар- птицы, он был предупрежден Горбунком, что лучше бы его не брать, ведь оно принесет больше бед и забот, чем счастья. Но, опять же из-за своей беспечности он не обратил на это никакого внимания, за что действительно потом не раз поплатился. Но, если подумать глубже, этот персонаж не так уж и глуп. Например, когда он сторожил поле, ему не составило большого труда подкараулить и поймать волшебную кобылицу, и даже суметь с ней договориться о том, что поле она больше топтать не будет, а в награду за то, что он ее отпустит, ей пришлось пообещать родить ему двух златогривых красавцев- коней, и еще одного, неприметного с первого взгляда конька, который потом станет его лучшим другом, что она и предвидела, попросив ни в коем случае его не продавать ни за какие деньги. Мало того, он даже не рассказал об этом случае своей семье, придумав рассказ, будто изловил самого черта, чтобы те не узнали о его приобретении. Позже он, правда не без помощи конька, смог провести и царя, сумел поймать для него Жар-птицу, и заморскую красавицу Царь- девицу, ставшую в будущем его женой.
В целом же наш Иван-дурак как человек очень положительный, он не раз приходил на помощь другим, никогда не помышлял ничего лихого, и даже прощал козни против него другим, тех же братьев, которые не постеснялись украсть у него жеребцов ради собственной наживы.
Стоит отметить и Конька–Горбунка, который ради любимого хозяина не раз рисковал собственной шкурой. Он является замечательным образцом друга, бескорыстного и верного, и доказывает, что не стоит обращать слишком много внимания на внешний вид. Хоть он совсем не был похож на своих красивых братьев, а казался даже смешным из-за своего маленького роста, двух горбов и длинных, будто ослиных ушей, - именно он оказался самым ценным другом Ивану, будучи готовым в любой момент оказать ему помощь.
В общем, сказка действительно не только очень интересная, но и поучительная, ведь показывает читателям что хорошие люди, не смотря ни на какие козни, все равно рано или поздно выйдут победителями, а нечестные и плохие – сполна заплатят за все свои прогрешения, как тот же царь, сварившийся из-за своего коварства в кипящем молоке.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .
Страница 1 из 3
Часть первая. Начинается сказка сказываться…
За горами, за лесами,
За широкими морями,
Против неба - на земле
Жил старик в одном селе.
У старинушки три сына:
Старший умный был детина,
Средний был и так и сяк,
Младший вовсе был дурак.
Братья сеяли пшеницу
Да возили в град-столицу:
Знать, столица та была
Недалече от села.
Там пшеницу продавали,
Деньги счетом принимали
И с набитою сумой
Возвращалися домой.
В долгом времени аль вскоре
Приключилося им горе:
Кто-то в поле стал ходить
И пшеницу шевелить.
Мужички такой печали
Отродяся не видали;
Стали думать да гадать -
Как бы вора соглядать;
Наконец они смекнули,
Чтоб стоять на карауле,
Хлеб ночами поберечь,
Злого вора подстеречь.
Вот, как стало лишь смеркаться,
Начал старший брат сбираться:
Вынул вилы и топор
И отправился в дозор.
Ночь ненастная настала,
На него боязнь напала,
И со страхов наш мужик
Закопался под сенник.

Ночь проходит, день приходит;
С сенника дозорный сходит
И, облив себя водой,
Стал стучаться под избой:
"Эй вы, сонные тетери!
Отворяйте брату двери,
Под дождем я весь промок
С головы до самых ног".
Братья двери отворили,
Караульщика впустили,
Стали спрашивать его:
Не видал ли он чего?
Караульщик помолился,
Вправо, влево поклонился
И, прокашлявшись, сказал:
"Я всю ноченьку не спал;
На мое ж притом несчастье,
Было страшное ненастье:
Дождь вот так ливмя и лил,
Рубашонку всю смочил.
Уж куда как было скучно!..
Впрочем, все благополучно".
Похвалил его отец:
"Ты, Данило, молодец!
Ты вот, так сказать, примерно,
Сослужил мне службу верно,
То есть, будучи при всем,
Не ударил в грязь лицом".
Стало сызнова смеркаться;
Средний брат пошел сбираться:
Взял и вилы и топор
И отправился в дозор.
Ночь холодная настала,
Дрожь на малого напала,
Зубы начали плясать;
Он ударился бежать -
И всю ночь ходил дозором
У соседки под забором.
Жутко было молодцу!
Но вот утро. Он к крыльцу:
"Эй вы, сони! Что вы спите!
Брату двери отворите;
Ночью страшный был мороз,-
До животиков промерз".

Братья двери отворили,
Караульщика впустили,
Стали спрашивать его:
Не видал ли он чего?
Караульщик помолился,
Вправо, влево поклонился
И сквозь зубы отвечал:
"Всю я ноченьку не спал,
Да, к моей судьбе несчастной,
Ночью холод был ужасный,
До сердцов меня пробрал;
Всю я ночку проскакал;
Слишком было несподручно...
Впрочем, все благополучно".
И сказал ему отец:
"Ты, Гаврило, молодец!"
Стало в третий раз смеркаться,
Надо младшему сбираться;
Он и усом не ведет,
На печи в углу поет
Изо всей дурацкой мочи:
"Распрекрасные вы очи!"
Братья ну ему пенять,
Стали в поле погонять,
Он ни с места. Наконец
Подошел к нему отец,
Говорит ему: "Послушай,
Побегай в дозор, Ванюша.
Я куплю тебе лубков,
Дам гороху и бобов".
Тут Иван с печи слезает,
Малахай свой надевает,
Хлеб за пазуху кладет,
Караул держать идет.
Поле все Иван обходит,
Озираючись кругом,
И садится под кустом;
Звезды на небе считает
Да краюшку уплетает.

Вдруг о полночь конь заржал...
Караульщик наш привстал,
Посмотрел под рукавицу
И увидел кобылицу.
Кобылица та была
Вся, как зимний снег, бела,
Грива в землю, золотая,
В мелки кольца завитая.
"Эхе-хе! так вот какой
Наш воришко!.. Но, постой,
Я шутить ведь, не умею,
Разом сяду те на шею.
Вишь, какая саранча!"
И, минуту улуча,
К кобылице подбегает,
За волнистый хвост хватает
И прыгнул к ней на хребет -
Только задом наперед.
Кобылица молодая,
Очью бешено сверкая,
Змеем голову свила
И пустилась, как стрела.
Вьется кругом над полями,
Виснет пластью надо рвами,
Мчится скоком по горам,
Ходит дыбом по лесам,
Хочет силой аль обманом,
Лишь бы справиться с Иваном.
Но Иван и сам не прост -
Крепко держится за хвост.
Наконец она устала.
"Ну, Иван, - ему сказала,-
Коль умел ты усидеть,
Так тебе мной и владеть.
Дай мне место для покою
Да ухаживай за мною
Сколько смыслишь. Да смотри:
По три утренни зари
Выпущай меня на волю
Погулять по чисту полю.
По исходе же трех дней
Двух рожу тебе коней -
Да таких, каких поныне
Не бывало и в помине;
Да еще рожу конька
Ростом только в три вершка,
На спине с двумя горбами
Да с аршинными ушами.
Двух коней, коль хошь, продай,
Но конька не отдавай
Ни за пояс, ни за шапку,
Ни за черную, слышь, бабку.
На земле и под землей
Он товарищ будет твой:
Он зимой тебя согреет,
Летом холодом обвеет,
В голод хлебом угостит,
В жажду медом напоит.
Я же снова выйду в поле
Силы пробовать на воле".
"Ладно", - думает Иван
И в пастуший балаган
Кобылицу загоняет,
Дверь рогожей закрывает
И, лишь только рассвело,
Отправляется в село,
Напевая громко песню:
"Ходил молодец на Пресню".
Вот он всходит на крыльцо,
Вот хватает за кольцо,
Что есть силы в дверь стучится,
Чуть что кровля не валится,
И кричит на весь базар,
Словно сделался пожар.
Братья с лавок поскакали,
Заикаяся вскричали:
"Кто стучится сильно так?" -
"Это я, Иван-дурак!"

Братья двери отворили,
Дурака в избу впустили
И давай его ругать, -
Как он смел их так пугать!
А Иван наш, не снимая
Ни лаптей, ни малахая,
Отправляется на печь
И ведет оттуда речь
Про ночное похожденье,
Всем ушам на удивленье:
"Всю я ноченьку не спал,
Звезды на небе считал;
Месяц, ровно, тоже светил, -
Я порядком не приметил.
Вдруг приходит дьявол сам,
С бородою и с усам;
Рожа словно как у кошки,
А глаза-то-что те плошки!
Вот и стал тот черт скакать
И зерно хвостом сбивать.
Я шутить ведь не умею -
И вскочи ему на шею.
Уж таскал же он, таскал,
Чуть башки мне не сломал,
Но и я ведь сам не промах,
Слышь, держал его как в жомах.
Бился, бился мой хитрец
И взмолился наконец:
"Не губи меня со света!
Целый год тебе за это
Обещаюсь смирно жить,
Православных не мутить".
Я, слышь, слов-то не померил,
Да чертенку и поверил".
Тут рассказчик замолчал,
Позевнул и задремал.
Братья, сколько ни серчали,
Не смогли - захохотали,
Ухватившись под бока,
Над рассказом дурака.
Сам старик не мог сдержаться,
Чтоб до слез не посмеяться,
Хоть смеяться - так оно
Старикам уж и грешно.
Много ль времени аль мало
С этой ночи пробежало,-
Я про это ничего
Не слыхал ни от кого.
Ну, да что нам в том за дело,
Год ли, два ли пролетело, -
Ведь за ними не бежать...
Станем сказку продолжать.
Ну-с, так вот что! Раз Данило
(В праздник, помнится, то было),
Натянувшись зельно пьян,
Затащился в балаган.
Что ж он видит? - Прекрасивых
Двух коней золотогривых
Да игрушечку-конька
Ростом только в три вершка,
На спине с двумя горбами
Да с аршинными ушами.
"Хм! Теперь-то я узнал,
Для чего здесь дурень спал!" -
Говорит себе Данило...
Чудо разом хмель посбило;
Вот Данило в дом бежит
И Гавриле говорит:
"Посмотри, каких красивых
Двух коней золотогривых
Наш дурак себе достал:
Ты и слыхом не слыхал".
И Данило да Гаврило,
Что в ногах их мочи было,
По крапиве прямиком
Так и дуют босиком.
Спотыкнувшися три раза,
Починивши оба глаза,
Потирая здесь и там,
Входят братья к двум коням.
Кони ржали и храпели,
Очи яхонтом горели;
В мелки кольца завитой,
Хвост струился золотой,
И алмазные копыты
Крупным жемчугом обиты.
Любо-дорого смотреть!
Лишь царю б на них сидеть!
Братья так на них смотрели,
Что чуть-чуть не окривели.
"Где он это их достал? -
Старший среднему сказал. -
Но давно уж речь ведется,
Что лишь дурням клад дается,
Ты ж хоть лоб себе разбей,
Так не выбьешь двух рублей.
Ну, Гаврило, в ту седмицу
Отведем-ка их в столицу;
Там боярам продадим,
Деньги ровно поделим.
А с деньжонками, сам знаешь,
И попьешь и погуляешь,
Только хлопни по мешку.
А благому дураку
Недостанет ведь догадки,
Где гостят его лошадки;
Пусть их ищет там и сям.
Ну, приятель, по рукам!"
Братья разом согласились,
Обнялись, перекрестились
И вернулися домой,
Говоря промеж собой
Про коней и про пирушку
И про чудную зверушку.
Время катит чередом,
Час за часом, день за днем.
И на первую седмицу
Братья едут в град-столицу,
Чтоб товар свой там продать
И на пристани узнать,
Не пришли ли с кораблями
Немцы в город за холстами
И нейдет ли царь Салтан
Басурманить христиан.
Вот иконам помолились,
У отца благословились,
Взяли двух коней тайком
И отправились тишком.
Вечер к ночи пробирался;
На ночлег Иван собрался;
Вдоль по улице идет,
Ест краюшку да поет.
Вот он поля достигает,
Руки в боки подпирает
И с прискочкой, словно пан,
Боком входит в балаган.
Все по-прежнему стояло,
Но коней как не бывало;
Лишь игрушка-горбунок
У его вертелся ног,
Хлопал с радости ушами
Да приплясывал ногами.
Как завоет тут Иван,
Опершись о балаган:
"Ой вы, кони буры-сивы,
Добры кони златогривы!
Я ль вас, други, не ласкал,
Да какой вас черт украл?
Чтоб пропасть ему, собаке!
Чтоб издохнуть в буераке!
Чтоб ему на том свету
Провалиться на мосту!
Ой вы, кони буры-сивы,
Добры кони златогривы!"
Тут конек ему заржал.
"Не тужи, Иван, - сказал, -
Велика беда, не спорю,
Но могу помочь я горю.
Ты на черта не клепли:
Братья коников свели.
Ну, да что болтать пустое,
Будь, Иванушка, в покое.
На меня скорей садись,
Только знай себе держись;
Я хоть росту небольшого,
Да сменю коня другого:
Как пущусь да побегу,
Так и беса настигу".

Тут конек пред ним ложится;
На конька Иван садится,
Уши в загреби берет,
Что есть мочушки ревет.
Горбунок-конек встряхнулся,
Встал на лапки, встрепенулся,
Хлопнул гривкой, захрапел
И стрелою полетел;
Только пыльными клубами
Вихорь вился под ногами.
И в два мига, коль не в миг,
Наш Иван воров настиг.
Братья, то есть, испугались,
Зачесались и замялись.
А Иван им стал кричать:
"Стыдно, братья, воровать!
Хоть Ивана вы умнее,
Да Иван-то вас честнее:
Он у вас коней не крал".
Старший, корчась, тут сказал:
"Дорогой наш брат Иваша,
Что переться - дело наше!
Но возьми же ты в расчет
Некорыстный наш живот.
Сколь пшеницы мы ни сеем,
Чуть насущный хлеб имеем.
А коли неурожай,
Так хоть в петлю полезай!
Вот в такой большой печали
Мы с Гаврилой толковали
Всю намеднишнюю ночь -
Чем бы горюшку помочь?
Так и этак мы вершили,
Наконец вот так решили:
Чтоб продать твоих коньков
Хоть за тысячу рублев.
А в спасибо, молвить к слову,
Привезти тебе обнову -
Красну шапку с позвонком
Да сапожки с каблучком.
Да к тому ж старик неможет,
Работать уже не может;
А ведь надо ж мыкать век, -
Сам ты умный человек!" -
"Ну, коль этак, так ступайте, -
Говорит Иван, - продайте
Златогривых два коня,
Да возьмите ж и меня".
Братья больно покосились,
Да нельзя же! согласились.
Стало на небе темнеть;
Воздух начал холодеть;
Вот, чтоб им не заблудиться,
Решено остановиться.
Под навесами ветвей
Привязали всех коней,
Принесли с естным лукошко,
Опохмелились немножко
И пошли, что боже даст,
Кто во что из них горазд.
Вот Данило вдруг приметил,
Что огонь вдали засветил.
На Гаврилу он взглянул,
Левым глазом подмигнул
И прикашлянул легонько,
Указав огонь тихонько;
Тут в затылке почесал,
"Эх, как темно! - он сказал. -
Хоть бы месяц этак в шутку
К нам проглянул на минутку,
Все бы легче. А теперь,
Право, хуже мы тетерь...
Да постой-ка... мне сдается,
Что дымок там светлый вьется...
Видишь, эвон!.. Так и есть!..
Вот бы курево развесть!
Чудо было б!.. А послушай,
Побегай-ка, брат Ванюша!
А, признаться, у меня
Ни огнива, ни кремня".
Сам же думает Данило:
"Чтоб тебя там задавило!"
А Гаврило говорит:
"Кто-петь знает, что горит!
Коль станичники пристали
Поминай его, как звали!"
Все пустяк для дурака.
Он садится на конька,
Бьет в круты бока ногами,
Теребит его руками,
Изо всех горланит сил...
Конь взвился, и след простыл.
"Буди с нами крестна сила! -
Закричал тогда Гаврило,
Оградясь крестом святым. -
Что за бес такой под ним!"
Огонек горит светлее,
Горбунок бежит скорее.
Вот уж он перед огнем.
Светит поле словно днем;
Чудный свет кругом струится,
Но не греет, не дымится.
Диву дался тут Иван.
"Что, - сказал он, - за шайтан!
Шапок с пять найдется свету,
А тепла и дыму нету;
Эко чудо-огонек!"

Говорит ему конек:
"Вот уж есть чему дивиться!
Тут лежит перо Жар-птицы,
Но для счастья своего
Не бери себе его.
Много, много непокою
Принесет оно с собою". -
"Говори ты! Как не так!" -
Про себя ворчит дурак;
И, подняв перо Жар-птицы,
Завернул его в тряпицы,
Тряпки в шапку положил
И конька поворотил.
Вот он к братьям приезжает
И на спрос их отвечает:
"Как туда я доскакал,
Пень горелый увидал;
Уж над ним я бился, бился,
Так что чуть не надсадился;
Раздувал его я с час -
Нет ведь, черт возьми, угас!"
Братья целу ночь не спали,
Над Иваном хохотали;
А Иван под воз присел,
Вплоть до утра прохрапел.
Тут коней они впрягали
И в столицу приезжали,
Становились в конный ряд,
Супротив больших палат.
В той столице был обычай:
Коль не скажет городничий -
Ничего не покупать,
Ничего не продавать.
Вот обедня наступает;
Городничий выезжает
В туфлях, в шапке меховой,
С сотней стражи городской.
Рядом едет с ним глашатый,
Длинноусый, бородатый;
"Гости! Лавки отпирайте,
Покупайте, продавайте.
А надсмотрщикам сидеть
Подле лавок и смотреть,
Чтобы не было содому,
Ни давежа, ни погрому,
И чтобы никой урод
Не обманывал народ!"
Гости лавки отпирают,
Люд крещеный закликают:
"Эй, честные господа,
К нам пожалуйте сюда!
Как у нас ли тары-бары,
Всяки разные товары!"
Покупальщики идут,
У гостей товар берут;

Гости денежки считают
Да надсмотрщикам мигают.
Между тем градской отряд
Приезжает в конный ряд;
Смотрит - давка от народу.
Нет ни выходу ни входу;
Так кишмя вот и кишат,
И смеются, и кричат.
Городничий удивился,
Что народ развеселился,
И приказ отряду дал,
Чтоб дорогу прочищал.
"Эй! вы, черти босоноги!
Прочь с дороги! прочь с дороги!"
Закричали усачи
И ударили в бичи.
Тут народ зашевелился,
Шапки снял и расступился.
Пред глазами конный ряд;
Два коня в ряду стоят,
Молодые, вороные,
Вьются гривы золотые,
В мелки кольца завитой,
Хвост струится золотой...
Наш старик, сколь ни был пылок,
Долго тер себе затылок.
"Чуден, - молвил, - божий свет,
Уж каких чудес в нем нет!"
Весь отряд тут поклонился,
Мудрой речи подивился.
Городничий между тем
Наказал престрого всем,
Чтоб коней не покупали,
Не зевали, не кричали;
Что он едет ко двору
Доложить о всем царю.
И, оставив часть отряда,
Он поехал для доклада.
Приезжает во дворец.
"Ты помилуй, царь-отец!-
Городничий восклицает
И всем телом упадает. -
Не вели меня казнить,
Прикажи мне говорить!"
Царь изволил молвить: "Ладно,
Говори, да только складно". -
"Как умею, расскажу:
Городничим я служу;
Верой-правдой исправляю
Эту должность..." - "Знаю, знаю!" -
"Вот сегодня, взяв отряд,
Я поехал в конный ряд.
Приезжаю - тьма народу!
Ну, ни выходу ни входу.
Что тут делать?.. Приказал
Гнать народ, чтоб не мешал.
Так и сталось, царь-надежа!
И поехал я - и что же?
Предо мною конный ряд;
Два коня в ряду стоят,
Молодые, вороные,
Вьются гривы золотые,
В мелки кольца завитой,
Хвост струится золотой,
И алмазные копыты
Крупным жемчугом обиты".

Царь не мог тут усидеть.
"Надо коней поглядеть, -
Говорит он, - да не худо
И завесть такое чудо.
Гей, повозку мне!" И вот
Уж повозка у ворот.
Царь умылся, нарядился
И на рынок покатился;
За царем стрельцов отряд.
Вот он въехал в конный ряд.
На колени все тут пали
И "ура" царю кричали.
Царь раскланялся и вмиг
Молодцом с повозки прыг...
Глаз своих с коней не сводит,
Справа, слева к ним заходит,
Словом ласковым зовет,
По спине их тихо бьет,
Треплет шею их крутую,
Гладит гриву золотую,
И, довольно засмотрясь,
Он спросил, оборотясь
К окружавшим: "Эй, ребята!
Чьи такие жеребята?
Кто хозяин?" Тут Иван,
Руки в боки, словно пан,
Из-за братьев выступает
И, надувшись, отвечает:
"Эта пара, царь, моя,
И хозяин - тоже я". -
"Ну, я пару покупаю!
Продаешь ты?" - "Нет, меняю". -
"Что в промен берешь добра?" -
"Два-пять шапок серебра". -
"То есть, это будет десять".
Царь тотчас велел отвесить
И, по милости своей,
Дал в прибавок пять рублей.
Царь-то был великодушный!
Повели коней в конюшни
Десять конюхов седых,
Все в нашивках золотых,
Все с цветными кушаками
И с сафьянными бичами.
Но дорогой, как на смех,
Кони с ног их сбили всех,
Все уздечки разорвали
И к Ивану прибежали.
Царь отправился назад,
Говорит ему: "Ну, брат,
Пара нашим не дается;
Делать нечего, придется
Во дворце тебе служить.
Будешь в золоте ходить,
В красно платье наряжаться,
Словно в масле сыр кататься,
Всю конюшенну мою
Я в приказ тебе даю,
Царско слово в том порука.
Что, согласен?" - "Эка штука!
Во дворце я буду жить,
Буду в золоте ходить,
В красно платье наряжаться,
Словно в масле сыр кататься,
Весь конюшенный завод
Царь в приказ мне отдает;
То есть, я из огорода
Стану царский воевода.
Чудно дело! Так и быть,
Стану, царь, тебе служить.
Только, чур, со мной не драться
И давать мне высыпаться,
А не то я был таков!"
Тут он кликнул скакунов
И пошел вдоль по столице,
Сам махая рукавицей,
И под песню дурака
Кони пляшут трепака;
А конек его - горбатко -
Так и ломится вприсядку,
К удивленью людям всем.
Два же брата между тем
Деньги царски получили,
В опояски их зашили,
Постучали ендовой
И отправились домой.
Дома дружно поделились,
Оба враз они женились,
Стали жить да поживать
Да Ивана поминать.
Но теперь мы их оставим,
Снова сказкой позабавим
Православных христиан,
Что наделал наш Иван,
Находясь во службе царской,
При конюшне государской;
Как в суседки он попал,
Как перо свое проспал,
Как хитро поймал Жар-птицу,
Как похитил Царь-девицу,
Как он ездил за кольцом,
Как был на небе послом,
Как он в солнцевом селенье
Киту выпросил прощенье;
Как, к числу других затей,
Спас он тридцать кораблей;
Как в котлах он не сварился,
Как красавцем учинился;
Словом: наша речь о том,
Как он сделался царем.
Но всё происходит наперекор желаниям братьев. Ершов делает Ивана удачливым. Почему?
Потому что Иван никому не желает зла. Его «глупый ум» в том, что он не крадёт, не обманывает, верен слову. Он не строит козней против ближних. Всякий раз, сделав доброе дело, Иван беззаботно поёт: поёт, возвращаясь из дозора, «Ходил молодец на Пресню»; поёт по дороге в балаган, где у него стоят кони. И уж настоящее веселье – общая пляска – произошло в столице, когда Иван был взят на службу к царю. Весёлый, добрый и простодушный Иван потому и нравится нам, что не похож на тех, кто считает себя «умным».
Презираемый и обманываемый братьями, Иван стал жить при царском дворе. Иван сам удивлён перемене в своей судьбе. По его словам, он «из огорода» стал «царский воевода». Невероятность такого изменения в судьбе Ивана высмеяна самим поэтом, но без такого хода действия не было бы и сказки.
Иван и на царской службе остался прежним: он выговорил себе право вдоволь спать («А не то я был таков»). Ершов часто говорит о том, что Иван спит так крепко, что его едва могут добудиться. Иван чуть не погубил себя, заснув у шатра девицы под её пение и игру на гуслях. Недовольный горбунок толкнул его копытом и сказал:
«Спи, любезный, до звезды!
Высыпай себе беды!»
Иван и хотел бы остаться беззаботным, да на царской службе беззаботным быть нельзя. Иван должен стать иным. Он учится этому. Чтобы не уснуть, не упустить ещё раз Царь-девицу, Иван набрал острых камней и гвоздей: «Для того, чтоб уколоться, если вновь ему вздремнётся». Верный конёк учит своего хозяина: «Гей! хозяин! полно спать! Время дело исправлять!» Конёк – воплощение чудесной сказочной силы, которая приходит на помощь Ивану. Эта сила действует против царедворцев и самого царя. Беды, в которые попадает Иван, грозны. Царь узнал из доноса спальника, что Иван скрывает перо Жар-птицы. Царь в гневе. Он добивается у Ивана признания: «Отвечай же! Запорю!..» Царское желание иметь перо Жар-птицы – одна прихоть и вздор. Царь смешон: получив перо, он забавляется им, как дитя игрушкой: «Гладил бороду, смеялся и скусил пера конец». Приказывая поймать Жар-птицу, царь грозит в случае неповиновения посадить Ивана на кол:
«Я, помилуй Бог, сердит!
И с сердцов иной порою
Чуб сниму и с головою».
Иван для царя «холоп» и не должен перечить ни его словам, ни желаниям. Таков и приказ искупаться в кипятке:
«Если ты в рассвет зари
Не исполнишь повеленье, -
Я отдам тебя в мученье,
Прикажу тебя пытать,
По кусочкам разрывать».
Неблагодарность царя, которому Иван оказал столько услуг, доносы, лицемерие придворных, их ловкая клевета – вот что причиняло несчастья даже таким нетребовательным, незлобивым людям, каков Иванушка.
Ершов противопоставил этому вполне реальному злу сказочную силу конька-горбунка.
Сказочный конёк-горбунок, как всякая хорошая выдумка, заключает в себе серьёзную мысль: силу царя и его придворных может сокрушить сила верного товарищества. Ершов опоэтизировал это чувство. Даря Ивану коней, кобылица сказала:
«Двух коней, коль хошь, продай,
Но конька не отдавай
Ни за пояс, ни за шапку,
Ни за чёрную, слышь, бабку.
На земле и под землёй
Он товарищ будет твой…»
Ершов сам раскрыл внутренний смысл сказочной выдумки: товарищество способно творить чудеса. И в жизни со студенческих лет Ершов верил в силу верной дружбы. В университете он встретил Константина Тимковского. Они подружились. Оба мечтали о полезной деятельности на благо России: им казалось, что они могут преобразить жизнь в Сибири, сделать край каторги и ссылки цветущим, а народы, его населявшие, просвещёнными. Друзья поклялись быть верными этому стремлению и даже обменялись кольцами. На внутренней стороне колец были выгравированы первые буквы латинских слов Mors et Vita, что значило: «Смерть и Жизнь». Друзья поклялись всю жизнь до самой смерти оставаться верными общему гражданскому долгу. Всей своей деятельностью после окончания университета Ершов – учитель русской словесности в Тобольской гимназии, а потом инспектор, директор её, а спустя время управляющий дирекцией училищ всей обширной Тобольской губернии, подтвердил верность своей клятве. По-разному сложилась жизнь друзей, но путь каждого имел началом клятву на верность России, скреплённую чувством товарищества. Это чувство и было воспето Ершовым в сказке.
Горбунок делит все радости и печали Ивана. Когда настало время самого сурового испытания – прыгать в кипящий котёл, горбунок сказал, что теперь понадобится вся его дружба:
«И скорее сам я сгину,
Чем тебя, Иван, покину».
Это-то и придало Ивану решимость:
На конька Иван взглянул
И в котёл тотчас нырнул…
Настоящая сказка всегда близка к правде. Поэт сохранил множество примет народной жизни. Собираясь в дозор, братья берут с собой вилы, топор – те орудия труда, которые крестьянин мог превратить и в оружие. Пойманную кобылу Иван загнал в пастушеский балаган – временный загон под навесом. Собираясь в дорогу, Иван берёт с собой три луковки, кладёт за пазуху хлеб, а небогатую поклажу сложил в мешок. Сказочная столица очень похожа на российский губернский или даже уездный город. Городничий с отрядом усачей прочищает дорогу в толпе, рассыпая удары налево и направо: «Эй! вы, черти босоноги! Прочь с дороги! Прочь с дороги!» Народ снимает шапки. Торговые гости-купцы в сговоре с надсмотрщиками, обманывают и обсчитывают покупателей. На торгу идёт не только денежная торговля, но и обмен натурой. Кричат глашатаи. Царь ездит в сопровождении стрельцов. Такие описания очень красят сказку и придают достоверность выдумке.
Красят сказку и упоминания о времени, хотя и краткие, но выразительные – говорится об утреннем свете, дневном блеске неба, вечернем сумраке и ночной темноте: «Только начало зариться», «Ясный полдень наступает», «Вот как стало лишь смеркаться», «Стало на небе темнеть», «Запад тихо догорал», «Ночь холодная настала», «Ночь настала, месяц всходит». Яркая картина набросана стихами.
В сказке Ершова много смешного, лёгкого юмора, народной мудрости и весёлых персонажей. Главные герои “Конёк-Горбунок” проходят через множество испытаний, волшебных превращений, обретают счастье и награду за свои старания. Главная мысль произведения, как и положено в русских сказках, торжество правды и справедливости. Увлекательны и разнообразны в рассказе описания приключений Ивана и его верного помощника Конька-Горбунка. Только стихотворный жанр отличает произведение от русской народной сказки, в остальном – мудрость, неограниченная фантазия и всевозможные чудеса роднят его с устным народным творчеством.
Характеристика героев “Конёк-горбунок”
Главные герои
Старший сын Данила, средний сын Гаврила |
Старшие сыновья старика – хитрые, ленивые, не привыкли работать и выполнять свои обязанности толково. Они воруют коней у Ивана, чтобы продать их и забрать деньги себе. Врут даже родному отцу, обманывают младшего брата, отправляют его на встречу опасностям, рассчитывая на погибель. Лёгкие деньги для них важнее родной души. |
Младший сын Иван |
Простой работящий парень, выполняет поручения честно и бесхитростно. Благодаря своему трудолюбию и усердию становится обладателем двух красивейших коней и маленького волшебного конька-горбунка. Царь назначает Ивана конюхом, оставляет при дворе. Он исправно служит, выполняет все поручения Царя. Не обладая большим умом, руководствуется сердцем и советами своего друга Конька-Горбунка. |
Конёк-Горбунок |
Волшебный жеребёнок, которого родила для Ивана кобылица с золотой гривой. Он мал ростом, некрасив, у него два горба. Горбунок очень быстр, по-человечески умён и наделён тайными знаниями, благодаря чему Ивану всегда сопутствует удача. Спасает своего хозяина в любых ситуациях, помогает обхитрить царя и остаться живым после испытания. |
Царь |
Глупый, завистливый, недальновидный правитель, который руководствуется слухами, подсказками, мнением других. Желание обладать различными чудесными вещами и молодой красавицей женой приводит к тому, что он “обваривается” в котле с кипятком. Народ с радостью принимает другого царя – Ивана. |
Царь-девица |
Сказочная красавица, про которую докладывают Царю. Он тут же решает послать за нею Ивана. Царь влюбляется в неё, но девица требует достать свой перстень со дна моря. Это поручение снова выполняет Иван с помощью Конька-Горбунка. Царь-девица соглашается обвенчаться с царём, если он омолодится в трёх котлах: с холодной, горячей водой и кипящим молоком. Царь отправляет на испытание Ваню, Конёк спасает его, помогая чудесным образом. |
Спальник |
Боярин, который ранее служил на конюшне, хочет извести Ивана. Следит за ним, клевещет, старается, чтобы Иван не справился с заданиями Царя, выискивает его слабые места. |
Второстепенные персонажи
Традиционно сказку Петра Ершова проходят в 4 классе. Она проста и самобытна, фантастический сюжет и яркие персонажи нравятся младшим школьникам. В сказке “Конёк-горбунок” герои привлекательны своей простотой, находчивостью, трудолюбием. Характеристика персонажей может быть полезна для читательского дневника и подготовки к уроку русской литературы.
Полезные ссылки
Посмотрите, что у нас есть еще:
Тест по произведению
КОНЕК - ГОРБУНОК – МИСТИФИКАЦИЯ ПУШКИНА
В апреле 1834 г профессор русской словесности Санкт-Петербургского университета Петр Александрович Плетнев на своей лекции прочел часть сказки «Конек-горбунок», автором которой, как назвал лектор, был Петр Ершов, сидевший в аудитории девятнадцатилетний студент. Первая глава сказки «Конек-горбунок» была опубликована в майском номере «Библиотеки для чтения» за 1834 г. 4 июня цензура разрешила выпуск сказки отдельной книгой. В сентябре вышло полное издание сказки. Известно, что черновой вариант Пушкин «тщательно просмотрел» и внес некоторые правки в текст сказки, переписанный рукой Ершова. После смерти Пушкина сказка издавалась в 1840 г. и 1843 г. большими по тем временам тиражами, после этого она была запрещена под предлогом «несоответствия современным понятиям и образованности».
В качестве гонорара за журнальную публикацию первой части Ершов получил 500 рублей. Книготорговец И.Т. Лисенков выдал ему 600 рублей за проданные 600 экземпляров первого издания «Конька» (по рублю за книгу) 25 февраля 1836 г. Никаких других денег автор за «Конька-горбунка» не получил, несмотря на ошеломительный успех. Ершов уехал из Петербурга и стал работать старшим преподавателем словесности в Тобольской гимназии. Всегда бедствовал. Был трижды женат, похоронил двух жен. Из 15 детей до совершеннолетия дожили четверо. Вопрос, как прокормить семью, оставался для него всегда самым главным. В 1841 г. он обратился к редактору журнала «Библиотека для чтения». О.И. Сенковскому с просьбой дать денег, так как ему в свое время, в 1834 г., не доплатили за публикацию первой части сказки. Сенковский, который в первом издании написал к публикации восторженное предисловие, на просьбу ответил В. А. Треборну, приятелю Ершова: «Я помогал Ершову здесь, в Петербурге, как бедняку. Он был беден; я вывел его в люди, я доставил ему хорошее место в Тобольске, где он получает порядочное содержание: с него очень довольно». В 1843 г в Москве в типографии Н. Степанова вышло третье издание «Конька-горбунка» на деньги московского купца К.И. Шамова без договора с автором сказки. Ершов был возмущен: «Но что меня бесит, то это подлость людей, называющихся книгопродавцами. Можешь себе представить, что нынешний издатель Конька, некто Шамов, напечатал мою сказку прежде окончания с ним условий и не получив моего согласия. И до сих ещё пор я не имею от него ни денег, ни назначенных экземпляров. С 1 декабря, если не получу от него удовлетворения, заведу судебное дело: за правого Бог!».
Четвертое, переработанное издание, в котором Ершов подверг текст основательной правке, вышло в свет в 1856 г. Исправлений и правок, внесенных Ершовым, оказалось около 300.
Первое издание Четвертое издание
Если ж нужен буду я… Если ж вновь принужусь я…
Как бы вора им поймать Как бы вора соглядать
Взяли хлеба из лукошка Принесли с естным лукошко
Перстень твой, душа, сыскал Перстень твой, душа, найдён
Кобылица молодая
Задом, передом брыкая,
Понеслася по полям,
По горам и по лесам. Кобылица молодая
Очью бешено сверкая,
Змеем голову свила
И пустилась как стрела.
То заскачет, то забьётся,
То вдруг круто повернётся.
Но дурак и сам не прост –
Крепко держится за хвост. Вьётся кругом над полями,
Виснет пластью надо рвами,
Мчится скоком по горам,
Ходит дыбом по лесам.
На него дурак садится,
Крепко за уши берёт,
Горбунок-конёк встаёт,
Чёрной гривкой потрясает,
На дорогу выезжает;
Вдруг заржал и захрапел,
И стрелою полетел. На конька Иван садится,
Уши в загреби берёт,
Что есть мочушки ревёт.
Горбунок-конёк встряхнулся,
Встал на лапки, встрепенулся,
Хлопнул гривкой, захрапел
И стрелою полетел.
При жизни Ершова вышли еще три издания: 1861 – 5-е; 1865 – 6-е; 1868 – 7-е. Умер Петр Ершов в 1869, на 55 году жизни.
По непонятным причинам П.П. Ершов уничтожил свой студенческий дневник и беловик сказки с правкой Пушкина, когда каждый автограф поэта стал представлять значимую материальную ценность. М. С. Знаменский записал в своем дневнике, что Петр Павлович (Ершов) по обыкновению рылся в своих бумагах, и сказал однажды, что много бумаг сжег, когда приехал в Тобольск. «Теперь жалко: напомнило бы, по крайней мере, молодость.< > Были у меня и заметки, писанные Пушкиным и другими» На настоящее время не найдена ни одна журнальная публикация сказки, ни одно отдельное ее издание с дарственной надписью Ершова тем, кто принял активное участие в ее оформлении, финансировании и продвижении: Жуковскому, Никитенко, Плетневу, Пушкину, Сенковскому, Смирдину. Если бы он был ее автором, то он обязательно преподнес бы в дар свою книгу с благодарственной надписью всем благодетелям. При жизни Пушкина Ершов ни разу не заявил, что является автором «Конька-горбунка».
П. Ершов стал знаменитым в 19 лет. Стихи, которые он писал ранее, не вызвали интереса даже у его сокурсников. Авторство Ершова в написании сказки подвергалось сомнениям с момента издания. Александр Лацис в очерке «Верните лошадь!», изданного в 1993 г, привел серьезные обоснования и аргументы в пользу версии авторства Пушкина.
Журнальный вариант сказки появился в мае 1834 г., цензуру сказка прошла довольно быстро – за три месяца, набор в печати и издание заняли не более двух месяцев. Сказка, надо полагать, была готова в конце 1833 г. Осенью 1833 г. в Болдино Пушкин закончил «Сказку о рыбаке и рыбке» и «Сказку о мертвой царевне и о семи богатырях». Из этих сказок и из «Сказки о царе Салтане», которую также Пушкин написал в Болдино, но в 1830 г., в «Конька» перекочевали строки:
Как на море-окияне
И на острове Буяне»
Новый гроб в лесу стоит
В гробе девица лежит»
Соловей над гробом свищет;
Черный зверь в дубраве рыщет.
Имена царя Салтана, Еруслана Лазаревича приходят в сказочный мир Ершова из пушкинских сказок:
Не пришли ли с кораблями
Немцы в город за холстами
И нейдет ли царь Салтан
Басурманить христиан.
Попивали мед из жбана
Да читали Еруслана.
«Руслан и Людмила» (1820)
«Эх! - один слуга сказал, -
Как севодни я достал
От соседа чудо-книжку!
В ней страниц не так чтоб слишком,
Да и сказок только пять,
А уж сказки - вам сказать».
К этому времени Пушкин написал пять сказок:
«Царь Никита и сорок его дочерей» (1822);
«Сказка о попе и о работнике его Балде» (1830);
«Сказка о царе Салтане» (1831);
«Сказка о рыбаке и рыбке» (1833);
«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» (1833).
Перекочевала в «Конек-горбунок» и заключительная строфа:
Я там был,
Мёд, вино и пиво пил;
По усам хоть и бежало,
В рот ни капли не попало.
Заключительная строфа в сказке:
«О мертвой царевне»
Обвенчался Елисей;
И никто с начала мира
Не видал такого пира;
Я там был, мед, пиво пил,
Да усы лишь обмочил
«О царе Салтане»
Я там был; мед, пиво пил -
И усы лишь обмочил.
В течение своей жизни Пушкин использовал разного рода мистификации для того, чтобы скрыть главный смысл произведения или скрыть свое авторство, предоставляя возможность читателям оценить достоинство его нового труда, не связывая его со скандально нашумевшими слухами и сплетнями о поэте.
Справка: «Литературная мистификация - произведение, приписываемое действительным автором автору иному (реальному писателю, вымышленному лицу, лицу действительному, но не написавшему его) или выдаваемое за произведение «народного творчества».
Драма «Борис Годунов» была изначально издана без указания авторства с подзаголовком «Драматическая повесть, Комедия o настоящей беде Московскому государству, o царе Борисе и о Гришке Отрепьеве». Скрыл свое авторство и при издании «Гавриилиады» и «Повестей Белкина». Число стихотворений Пушкина, не напечатанных при его жизни, огромно. Здесь есть и лирические строфы, слишком интимные для печати, и эпиграммы, едкие и колкие, и политические оды, слишком вольные, и целые поэмы, авторство которых было установлено лишь по тому, что были написаны его рукой и находились среди его бумаг. Одной из самых масштабных мистификаций в истории русской литературы является сказка «Конек-Горбунок», авторство которой присвоено П.П. Ершову и истинный глубокий смысл которой не раскрыт до сих пор полностью. На вопрос: «Зачем Пушкин это сделал?» Можно назвать две причины, по которым Пушкин не захотел поставить под «Коньком» свою подпись, - финансовая и политическая.
«Конек-горбунок» был написан в конце 1833 г. Вероятнее всего, Пушкин отнес сказку Смирдину и предложил ему права на все будущие издания сказки. К этому времени Смирдин платил ему по 10 рублей за строчку. В сказке было 2300 строк, и за нее Пушкин мог затребовать 25 - 30 тысяч дохода и получить 20-25 тысяч. Долги у Пушкина были двузначные и к тому же он, беспокоясь о судьбе Ольге Калашниковой и ее семье, дал ей определенную сумму денег, которых должно было хватить на выкуп залога за крепостных, на приобретение своего дома и своих дворовых людей. Все свои расходы и доходы Пушкин не хотел афишировать, и, прежде всего, сообщать о них супруге.
Если бы автором сказки был Пушкин, то ее сначала должны были передать императору для прочтения, так как первым цензором был у Пушкина сам Николай I. Ему бы явно многие строфы о царе не понравились, он мог запретить ее издание или заставить ее переделать. Процедура издания сказки могла затянуться на месяцы, а, может быть, и на годы.
Сказка молодого поэта Ершова воспринималась читателям в ее прямом смысле и никак иначе, так как трудно было предположить, что столь неопытный автор, написавший такую гениальную сказку по форме, по стилю, по содержанию, скрывал иной смысл.
По моему мнению, Пушкин в сказке изложил свое восприятие событий, которые происходили в его жизни, свои переживания и свое видение будущего. Главными героями в ней являются:
Царь - император Николай I:
Царь-девица - его супруга Наталья;
Иван-дурак - сам поэт;
Спальник – граф Бенкендорф.
1. О царь–девице в сказке говорится:
Та девица, говорят,
Ездит в красном полушубке,
В золотой, ребята, шлюпке
И серебряным веслом
Самолично правит в нем;
Разны песни попевает
И на гусельцах играет...»
Из воспоминаний цыганки Тани: «Раз всего потом довелось мне его видеть. Месяц, а может и больше после его свадьбы, пошла я как-то утром к Иверской, а оттуда в город, по площади пробираюсь. Гляжу, богатейшая карета, новенькая, четвернею едет мне навстречу. Я было свернула в сторону, только слышу громко кто-то мне из кареты кричит: “Радость моя, Таня, здорово!“ Обернулась я, а это Пушкин, окно опустил, высунулся в него сам, а оттуда мне ручкой поцелуй посылает. А подле него красавица писаная - жена сидит, голубая на ней шуба бархатная, - глядит на меня, улыбается».
«Эта вовсе не красива:
И бледна-то и тонка,
Чай, в обхват-то три вершка;
А ножонка-то ножонка!
Тьфу ты! Словно у цыпленка!
Пусть полюбится кому,
Я и даром не возьму».
Справка: три вершка – 13,5 см.
Описание Царь-девицы полностью соответствует образу Натальи Гончаровой, которую впервые встретил Пушкин на рождественском балу у танцмейстера Йогеля в доме Кологривовых на Тверском бульваре. Она была в белом воздушном платье, с золотым обручем на голове, изящна, стройна и восхитительно юна (бледна, тонка и с удивительно маленькой ножкой).
Вокруг высокого чела,
Как тучи, локоны чернеют.
Звездой блестят ее глаза…
Иван-дурак, не совсем простой парень, себя он величает: Иван Петрович, то есть его отец был знатным. Порядок использования имен и отчеств закреплялся в официальных документах, таких, как «Табель о рангах» Петра I и «Чиновная роспись» Екатерины II. Крестьянин именовался именем без отчества, представлялся, к примеру, Петром сыном Михайлы или Петром Михайловым. К чиновнику высокого ранга, представителю купеческого сословия обращались обязательно по имени и отчеству, например, Павлом Сидоровичем. С XIX века отчество стало использовать интеллигенция (Пушкин Александр Сергеевич), а после отмены крепостного права его разрешили носить и крестьянству.
Сказка является зашифрованной автобиографией Пушкина, его историей взлета и его отношений с царем, с его приближенными и с красавицей. Расшифровку закодированного начнем с приезда Ивана (Пушкина) в столицу (Москву).
Иван с братьями привел двух коней и поставил в конный ряд:
«Два коня в ряду стоят,
Молодые, вороные,
Вьются гривы золотые,
В мелки кольца завитой,
Хвост струится золотой,
И алмазные копыты
Крупным жемчугом обиты».
«Смотрит - давка от народу.
Нет ни выходу ни входу;
Так кишмя вот и кишат,
И смеются, и кричат».
Пушкин по приезду из Михайловского в 1826 г. представил друзьям в Москве драму «Борис Годунов» и продолжение романа в стихах «Евгений Онегин». Никогда, ни прежде, ни после его не приветствовали с такой горячностью. Когда Пушкин появился в Московском театре, «все лица, все бинокли были обращены на него, стоявшего между рядами и окруженного густою толпой». Первое чтение «Бориса Годунова» у Веневитинова, в присутствии Вяземского, Соболевского и других, вызвало бурю восторгов, слезы, объятия, друзья провозгласили его несравненным.
Царь раскланялся и вмиг
Молодцом с повозки прыг…
Глаз своих с коней не сводит,
Справа, слева к ним заходит,
Словом ласковым зовет,
По спине их тихо бьет,
Треплет шею им крутую,
Гладит гриву золотую,
И, довольно насмотрясь,
Он спросил, оборотясь
К окружавшим: «Эй, ребята!
Чьи такие жеребята?
Кто хозяин?»
Поэт направил рукопись «Бориса Годунова» Бенкендорфу, «в том самом виде, как она была мною читана, дабы вы сами изволили видеть дух, в котором она сочинена». Через два с половиной месяца Бенкендорф ответил поэту, что царь прочел трагедию с большим удовольствием.
В начале 1828 г. поэт лично передал Бенкендорфу свои последние стихи вместе с шестой главой «Онегина». Тот сообщил Пушкину 5 марта 1828 г., что царь с удовольствием прочитал «Онегина».
«Вы говорите мне об успехе "Бориса Годунова», - пишет Пушкин Е.М. Хитрово в феврале 1831 г. – «по правде я не могу этому верить. Успех совершенно не входил в мои расчеты, когда я писал его. Это было в 1825 году - и потребовалась смерть Александра, и неожиданное благоволение ко мне нынешнего Императора, его широкий и свободный взгляд на вещи, чтобы моя трагедия могла выйти в свет».
«Эта пара, царь, моя,
И хозяин - тоже я». -
«Ну, я пару покупаю;
Продаешь ты?» - «Нет, меняю». -
«Что в промен берешь добра?» -
«Два-пять шапок серебра» -
«То есть это будет десять».
Царь тотчас велел отвесить».
В конце декабря 1830 г. «Борис Годунов» вышел в свет. Поэт получил гонорар 10 тысяч рублей.
Если Пушкин представляя, как Иван выставил на обозрение народу двух вороных коней, думал о себе и об успехе его вороных коней: драме «Борис Годунов» и романе «Евгений Онегин», то, что скрывалось в понимании Пушкина за коньком-горбунком?
«Что ж он видит? - Прекрасивых
Двух коней золотогривых
Да игрушечку-конька
Ростом только в три вершка,
На спине с двумя горбами
Да с аршинными ушами».
Странный вид у этого конька ростом в три вершка (13,5 см), с двумя горбами и с аршинными ушами. На таком коньке верхом никуда не уедешь, на него не сядешь, так как он в два раза ниже игрушечного конька для детей двухлетнего возраста. А в сказке конек переносил Ивана в дальние страны с удивительной скоростью, доступной только, в те времена, полету мысли.
Если «Борис Годунов» и «Евгений Онегин» это – вороные кони, то конек-горбунок это – поэзия. В высшем обществе поэзия по ценности и важности среди всех сфер деятельности стояла в задних рядах, роль ее была малозаметной, поэтому и ростом конек в три вершка. На самом же деле поэзия это – повседневный труд, и тот, кто сидит с пером днем и ночью, со временем становится горбатым, как конек, у которого от трудов праведных выросли аж два горба. А эти длинные уши, которые в пять раз длиннее роста конька, нужны поэзии, чтобы улавливать информацию, и все знать.
Поэзия, как конек-горбунок в сказке, была постоянной спутницей поэта, она его вознесла, прославила, спасала, помогала высказать наболевшее и была главным советчиком.
Он товарищ будет твой:
Он зимой тебя согреет,
Летом холодом обвеет;
В голод хлебом угостит,
В жажду мёдом напоит.
А кто же тогда та кобылица, которая родила Ивану двух вороных коней и конька? Это – Муза. Ее Пушкин сумел укротить, а братья ее прозевали. Ими могли быть друзья по лицею: Пущин и Кюхельбекер. А их отцом правильно было бы считать старика Державина, который, в гроб сходя, их благословил. «Когда же патриарх наших певцов в восторге, со слезами на глазах бросился целовать и осенил кудрявую его голову, мы все, под каким-то неведомым влиянием, благоговейно молчали» (Пущин И. И. Записки о Пушкине).
За горами, за лесами,
За широкими морями,
Против неба - на земле
Жил старик в одном селе.
8 сентября 1826 г. Пушкина доставили с фельдъегерем из Михайловского в Москву, беседа поэта с самодержцем в Чудовом монастыре продолжалась около двух часов. Царь дозволил ему жить в любом месте, кроме Петербурга. В официальном письме граф Бенкендорф подтвердил пожалованные поэту во время беседы царские милости: «Вы можете употребить весь досуг, вам предоставляется совершенная и полная свобода, когда и как представить ваши мысли и соображения; и предмет сей должен представить тем обширнейший круг, что на опыте видели совершенно все пагубные последствия ложной системы воспитания. Сочинений ваших никто рассматривать не будет, на них нет никакой цензуры: Государь император сам будет и первым ценителем произведений ваших, и цензором».
Царь отправился назад,
Говорит ему: «Ну, брат,
Пара нашим не дается;
Делать нечего, придется
Во дворце тебе служить;
Будешь в золоте ходить,
В красно платье наряжаться,
Словно в масле сыр кататься,
Всю конюшенну мою
Я в приказ тебе даю,
Царско слово в том порука.
Что, согласен?»
По дороге в столицу братья приметили впереди огонь и отправили Ивана выяснить, что это. На коньке Иван быстро добрался до места, откуда шел свет.
Светит поле словно днём;
Чудный свет кругом струится,
Но не греет, не дымится.
Диву дался тут Иван.
"Что - сказал он, - за шайтан!
Шапок с пять найдётся свету,
А тепла и дыма нету;
Эко чудо-огонёк!"
Иван свернул перо жар-птицы в тряпицу, ее положил в шапку и вернулся к братьям. Перья жар-птицы обладают способностью излучать свет и освещать находящиеся предметы, вырывая их из темноты. Такими же удивительными возможностями обладает Слово, оно ведет к знаниям, оно прославляет.
Перо жар-птицы, которое поднял Иван, это – написанное Пушкиным в это время стихотворение «Стансы» (Ода во славу власти). Пушкин восхищается Петром I, который «самодержавною рукой смело сеял просвещенье», и надеется, что вступивший на трон молодой император Николай I, как достойный приемник Петра I, осуществит завещанное им. Он восхищенно одобрял действия императора. Бенкендорф докладывал: «Пушкин, автор, в Москве и всюду говорит о Вашем императорском Величестве с благодарностью и глубочайшей преданностью». В октябре 1827 г, фон Кок, чиновник III отделения сообщает: «Поэт Пушкин ведет себя отменно хорошо в политическом отношении. Он непритворно любит Государя». Свое Слово, свою поэзию поставил поэт в это время на службу императору, его он благодарил и прославлял.
А конек ему объяснил, что
Тут лежит перо Жар-птицы,
Но для счастья своего
Не бери себе его.
Много, много непокою
Принесет оно с собою.
Дорога, как оказалось, привела его в конце концов к столкновению с этой властью и к гибели поэта. Некоторые из почитателей Пушкина в то время разочаровались в нем, обвиняя его в пресмыкательстве и подхалимстве перед царем.
Спальник разглядел, где прячет перо Иван, выкрал его и принес к царю.
Спальник тихо продолжает
Изогнувшися. - Добро!
Пусть имел бы он перо;
Да и самую Жар-птицу
Во твою, отец, светлицу,
Коль приказ изволишь дать,
Похваляется достать".
Справка: спальник - придворный чин в Московском государстве в XV-XVII веках. Спальники дежурили в комнате государя, раздевали и одевали его, сопровождали во время поездок. Должность спальника обеспечивала благоприятные условия для придворной карьеры. Спальники из аристократических родов получали от царя пожалование в бояре.
При Николае I командующим главной его императорского величества квартирой был граф А.Х. Бенкендорф, одновременно он был главным начальником III отделения. Граф докладывал обо всех действиях Пушкина, передавал его произведения, доносил о его противозаконных выступлениях, был тем самым спальником, который сообщил царю о жар-птице. Пришлось Пушкину с помощью своего конька ловить птицу–жар, которую назвал «Полтава». В этой поэме он поднял на высокий пьедестал выдающегося полководца Петра Великого, одержавшего блистательную победу над грозным соседом, шведским королем Карлом XII.. Царь - творец победы.
Раздался звучный глас Петра:
"За дело, с богом!" Из шатра,
Толпой любимцев окруженный,
Выходит Петр. Его глаза
Сияют. Лик его ужасен.
Движенья быстры. Он прекрасен,
Он весь, как божия гроза.
Пушкин создал яркую Оду, которая прославляла Петра I. Она прокладывала и освещала дорогу (как жар-птица) для его приемника Николая I к высокой миссии просвещенного монарха, всемерно содействующего возвышению величия государства Российского.
Свет такой тут вдруг разлился,
Что весь двор рукой закрылся.
Царь кричит на весь базар:
«Ахти, батюшки, пожар!»
И эта Ода была написана, как раз в то время, когда Николай I вел успешно персидскую войну, были присоединены к России новые земли, русские войска перешли Дунай, и началась войну с Турцией за освобождение южнославянских земель.
Говорит Ивану царь:
«Вот люблю дружка Ванюшу!
Взвеселил мою ты душу,
И на радости такой -
Будь же царский стремянной!»
14 ноября 1831 г. был издан указ: «Государь Император высочайше повелеть соизволил: отставного коллежского секретаря Александра Пушкина принять на службу тем же чином и определить его в государственную Коллегию Иностранных дел». А 6 декабря Пушкин был повышен в должности, и было определено жалование, которое десятикратно превышало ставки чиновников того же ранга. «Государь Император всемилостивейшее пожаловать соизволил состоящего в ведомстве государственной Коллегии Иностранных дел коллежского секретаря Пушкина в титулярные советники». «Высочайше повелено требовать из государственного казначейства с 14 ноября 1831 года по 5000 рублей в год на известное Его императорскому величеству употребление, по третям года, и выдавать сии деньги тит. сов. Пушкину» Государь разрешил поэту доступ в архивы, в том числе и в некоторые архивы Тайной канцелярии. Пушкин – Плетневу: «Государь, который до сих пор не переставал осыпать меня милостями, соизволил принять меня на службу и милостиво назначил мне 5 000 р. жалованья».
По докладу спальника царь велел Ивану найти и привезти царь-девицу. которая
Дочь, вишь, Месяцу родная,
Да и Солнышко ей брат.
А, по мнению Ивана, она вовсе - не красотка:
«Всем бы, кажется, красотка,
Да у ней, кажись, сухотка:
Ну, как спичка, слышь, тонка,
Чай, в обхват-то три вершка;
Вот как замуж-то поспеет,
Так небось и потолстеет».
В самый канун Нового года, 30 декабря 1829 г, на балу у генерал-губернатора князя Д. В. Голицына представлялись живые картины, в одной из которых участвовала 17-летняя Наталья Гончарова, которая изображала сестру Дидоны. Публика в восторге требовала вновь и вновь повторения изящной сценки. Весть о триумфе Натали дошла до Петербурга.
В это время за Натальей ухаживал князь П. А. Мещерский, который был влюблен в нее. Наталья Ивановна, ее мать, несомненно, считала его более желанным женихом для дочери. Князь Платон Алексеевич Мещерский, 1805 г. рождения, служил в Московском главном архиве Министерства иностранных дел. Владели князья Мещерские землями площадью 5635 десятин земли. Платону и Александру Алексеевичам Мещерским принадлежали 840 душ крестьян.
Кроме князя Мещерского четверо представителей из «роя поклонников и воздыхателей» были постоянно рядом с Наталей Гончаровой. Все женихи были из богатых семей. Мать настаивала на князе Мещерском.
Пушкин, который год назад сделал предложение Наталье, отказ не получил, но был встречен холодно.
Тут царевна заиграла
И столь сладко припевала,
Что Иван, не зная как,
Прикорнулся на кулак;
И под голос тихий, стройной
Засыпает преспокойно.
Наталья Ивановна вообще кандидатуру Пушкина в женихи дочери не рассматривала.
12 марта газеты сообщили: «был дан концерт в пользу Московской глазной больницы; Его Императорское Величество изволил осчастливить оный своим Высочайшим присутствием; многие обоего пола особы, споспешествуя благотворительной цели в пользу страждущего человечества, украсили оный концерт своими талантами; съезд состоял из 2657 особ, из числа коих на хорах было 600»..
Четырнадцатого марта Пушкин писал Вяземскому: «3-го дня приехал в Москву и прямо из кибитки попал в концерт, где находилась вся Москва. Первые лица, попавшиеся мне навстречу, были N. Гончарова и княгиня Вера, а вслед за ними братья Полевые. Приезд государя сделал большое впечатление». Император Николай I обратил внимание на юную Натали и отметил в беседе с фрейлиной Наталией Кирилловной Загряжской красоту Натальи. Император, при этом, поинтересовался, как бы из любопытства: «Слышал, что Пушкин делал ей предложение, и как? Она дала согласие?», тем самым царь дал понять, что внимательно следит за ней и Пушкиным.
Я тебя едва узрел -
Сильной страстью воскипел.
Соколины твои очи
Не дадут мне спать средь ночи
И во время бела дня,
Ох, измучают меня.
Именно в этот момент грандиозного успеха юной красавицы, в момент зенита своей славы в московском обществе Натали неожиданно изменила свое отношение к Пушкину с холодного на благожелательное. Обрадованный Пушкин сделал вторично предложение, и оно было принято.
Говорит Иван, вставая, -
“Ты в другой раз не уйдешь
И меня не проведешь".
Тут в шатер Иван вбегает,
Косу длинную хватает...
"Ой, беги, конёк, беги!
Горбунок мой, помоги!"
Позже Пушкин, восстанавливая в памяти прошедшие события в марте-апреле 1830 года, все больше убеждался, что вторичное его предложение было принято неслучайно, и что он, как жених, был одобрен императором, и через своих людей это пожелание было доведено до Гончаровых. По сути дела, он стал исполнителем коварного плана императора, в соответствии с которым он должен был ввести Натали в высшее общество и познакомить с государем. Мать ее знала, какие порядки творятся в этом узком кругу, так как когда–то была фрейлиной, и догадывалась, для какой цели ее приглашают, выдавая замуж за поэта.
Знакомая Гончаровых Н. П. Озерова писала: «Утверждают, что Гончарова-мать сильно противилась браку своей дочери, но что молодая девушка ее склонила. Она кажется очень увлеченной своим женихом». Наталья согласилась выйти замуж за Пушкина против воли матери. Такое могла совершить дочь, переставшая быть покорной, и полюбившей жениха так сильно, что готова была идти на разрыв с матерью. А могли ли такие чувства возникнуть у Натали? Она видела Пушкина мимолетно, с ним наедине не общалась, восхищалась его творчеством, но еще ходили о нем слухи и самые ужасные. Она страшилась его непредсказуемости. На фанатку, которая знала каждую строчку его стихотворений, она не была похожа ни до замужества, ни после. Любовь редко объединяла семейные пары. Дочерей с детства воспитывали в понимании главного правила жизни женщины – она должна подчиняться интересам семьи, а в будущем своему мужу, и неважно какой он будет: старый, кривой, больной, бабник или картежник. Родители решали, с кем дочь должна идти под венец. «А я другому отдана и буду век ему верна». Таков был порядок, и женщинам приходилось нести свой крест. В высшем обществе образованная финансово обеспеченная женщина могла проявить в семье свой характер, потребовать больше свобод для себя и даже развестись. Натали, по всем правилам того времени, должна была выйти замуж за князя Мещерского, как хотела и требовала мать, но вмешался император. И Пушкин, счастливый, стал осуществлять план императора также, как был вынужден поступить Иван-дурак. Со второго захода он сумел поймать царь-девицу и привел ее в Царское Село, где она «случайно» встретилась с царской четой. И ее пригласили на бал в особняке графа Кочубея, а затем и в Аничков дворец, в узкий круг семьи императора. Ухаживания императора за его красавицей бесили Пушкина, а его открытие, что Сашка-рыжий - не его сын, не давали ему покоя.
В сказке он не мог допустить, чтобы царь-девица стала женой старика царя. Пушкин ищет предлог, чтобы его царь-девица сумела отсрочить свадьбу ей, и находит, царь должен достать ее перстень, без которого она не может выйти замуж.
Говорит ему царевна:
«Если хочешь взять меня,
То доставь ты мне в три дня
Перстень мой из окияна!»
Этим перстнем, бриллиантом должна была стать задуманная им «История государства Российского» от Петра I до современности (черновой вариант текста «История Петра I» был подготовлен). Для написания этого многотомного произведения нужны были новые достоверные источники: документы, договора, письма, воспоминания. Многие из них лежали в архивах в разных местах по всей стране. Поиски их, как предполагал Пушкин, будут нелегкими и долгими, и придется проехать по стране не одну тысячу километров. Его поэзия и проза, и его талант должны были ему помочь.
Горбунок летит, как ветер,
И в почин на первый вечер
Верст сто тысяч отмахал
И нигде не отдыхал.
Там далеко на востоке, за Уралом раскинулись просторы Сибири, где поселились мужики, построили остроги, села, города, распахали земли. Сибирь - страна великая, как чудо-юдо рыба-кит, улегшаяся поперек от Северного Ледовитого океана до Тихого:
Все бока его изрыты,
Частоколы в ребра вбиты,
На хвосте сыр-бор шумит,
На спине село стоит;
Мужички на губе пашут,
Между глаз мальчишки пляшут,
А в дубраве, меж усов,
Ищут девушки грибов.
Десять лет назад эта благодатная земля превратилась в каторгу для многих близких Пушкину семей. В утробе рыбы-кита, в темноте томились тысячи заключенных, трудились на рудниках в кандалах, и никто из них не знал, увидят ли они солнце и выйдут ли на свободу.
« за то несет мученье,
Что без Божия веленья
Проглотил среди морей
Три десятка кораблей».
Цифры в сказке имеют лишь смысловое значение:
3 вершка – узкая талия, низкий рост у конька-горбунка,
2 аршина – длинные уши,
50 жар-птиц и 30 кораблей – громадное количество,
15 лет царь-девицы – еще юная,
70 летний царь – старик.
Задача с написанием истории России без тайн, которые хранились за семью печатями в императорской семье, была бы неподъемной и неразрешимой без помощи потусторонних сил. А секретов государственной важности накопилось за двести лет необычайно много:
почему умер в таком малолетнем возрасте царь Петр II,
каким образом пришла к власти Анна Иоанна,
в каких застенках томился и погиб Иван VI,
кто убил императора Петра III,
был ли император Павел сыном Петра III,
участвовал ли Александр I в заговоре и убийстве отца Павла,
был ли Николай I сыном Александра I,
и находились ли все правители России после Петра I на троне по закону.
Иван отправился на Небеса:
Вот конёк во двор въезжает;
Наш Иван с него слезает,
В терем к месяцу идет
И такую речь ведет:
"Здравствуй, Месяц Месяцович!
Я - Иванушка Петрович,
Из далеких я сторон
И привез тебе поклон".
Персонаж Месяц Месяцович, пребывающий в тереме, на башне которого православный крест из звезд, - особенный. С одной стороны, месяц (Луна) – мать царь-девицы:
«Говорит ему царица:
"Месяц - мать мне. Солнце - брат"».
О своих переживаниях Луна (Месяц) говорит от женского лица:
«Оттого-то, видишь, я
По три ночи, по три дня
В темном облаке ходила,
Все грустила да грустила,
Трое суток не спала,
Крошки хлеба не брала,
Оттого-то сын мой красный
Завернулся в мрак ненастный.
И скажи моей родной:
"Мать твоя всегда с тобой”».
С другой стороны, Месяц – лицо мужского рода:
"Ну, Иванушка Петрович!”-
Молвил Месяц Месяцович,
Как мать, Месяц – творец жизни, как мужчина – источник света, просвещения и освещения тайн, скрытых во мраке темноты.
Иван обращается к нему за советом:
Есть еще к тебе прошенье,
То о китовом прощенье...
Скоро ль кончится мученье?
Чем сыскать ему прощенье?
.
Мудрый Месяц учит, как избавиться от страданий:
«Он за то несет мученье,
Что без божия веленья
Проглотил среди морей
Три десятка кораблей.
Если даст он им свободу,
Снимет бог с него невзгоду.
Вмиг все раны заживит,
Долгим веком наградит,
Кто этот персонаж: созидатель жизни и источник знаний, Творец и одновременно просветитель? Таким лицом, в понимании Пушкина, мог быть только Петр I. (предположение, что за образом Месяца Месяцовича скрывается Петр I, высказала Елена Шувалова, )
Тайны императорской семьи мог помочь открыть только находившийся на небесах Петр I, не причастный к вакханалии смены правителей. Его душа могла бы просветить и подсказать, как действовать, какие силы, какие люди могли бы помочь в этой отчаянной войне с самозванцами. Его светлое имя, по мнению Пушкина, должно было помочь открыть архивы, и тогда он сможет сказать правду об этих правителях. Это будет книга, которая заставит людей по-иному взглянуть на все происходящее, изменит отношение общества к вышедшим на Сенатскую площадь в декабре 1825 г., и оно перестанет считать этих заключенных преступниками. И тогда темницы рухнут, и они выйдут на свободу.
Чудо-кит зашевелился,
Словно холм поворотился,
Начал море волновать
И из челюстей бросать
Корабли за кораблями
С парусами и гребцами.
Птенцы гнезда петрова, к которым причислял себя и Пушкин (Иван Петрович), получив сигнал от духа Петра (Месяца), активно примутся за поиски документов, и главный архивариус, похожий на ерша, откопает спрятанную глубоко под землей библиотеку и передаст сохраненные фолианты весом более тоны, поэту.
В омут кинулся он смело
И в подводной глубине
Вырыл ящичек на дне -
Пуд по крайней мере во сто.
«История государства Российского» должна была рассказать правдиво о победах и поражениях России, о взлетах и падениях, почему на Руси народ бунтовал, кто плел заговоры, и что хотели создать те яркие личности, болевшие за будущее страны, те беспокойные умы, которые вышли на площадь в декабре. Пушкин писал об особенности России: «Россия никогда ничего не имела общего с остальной Европою; что история ее требует другой мысли, другой формулы, как мысли и формулы, выведенные из истории христианского Запада». Эта «История…» должна была привести общество к осознанию, что в стране должны произойти перемены, должны быть проведены реформы во всех сферах деятельности государства, а царю придется принимать решение и пройти через серьезное испытание (стихийное бедствие, бунт, заговор, война).
Вот, коль хочешь ты жениться
И красавцем учиниться, -
Ты без платья, налегке,
Искупайся в молоке;
Тут побудь в воде вареной,
А потом еще в студеной,
И скажу тебе, отец,
Будешь знатный молодец!»
Это испытание, как предсказал Пушкин, император перенести не сможет, он погибнет. А Пушкина спасет его конек-горбунок (его творчество), и выйдет он после них преображенный и величественный.
И такой он стал пригожий,
Что ни в сказке не сказать,
Ни пером не написать!
После завершения банного процесса в трех котлах конек-горбунок исчезает. И, видимо, Пушкин, не упомянул его преднамеренно, предоставляя читателю возможность догадаться, что он к этому моменту сам творить перестанет, что его к этому времени в живых не будет. Но книги его читать будут на Руси все. Пройдя испытания, Пушкин вместе со своей красавицей Натальей (царь-девицей) будет вознесен на Олимп, и станет он, как Зевс, духовным царем русского народа.
«Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
Тунгус, и друг степей калмык.
И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я Свободу
И милость к падшим призывал».
Пушкину «Историю государства Российского» написать не удалось, перемены, предсказываемые поэтом, произошли в стране позже. И сыграли в них свою роль изданные вновь его сочинения.
Зимой 1850 г. Наталья Николаевна решила издать вновь сочинения Пушкина. 21 мая 1851 г. Иван Васильевич Анненков, флигель-адъютант Николая I, подписал с Н.Н. Ланской (Пушкиной) письменный договор, по которому она уступила ему право на издание сочинений ее первого мужа. Два сундука бумаг Пушкина были переданы Павлу Анненкову, брату Ивана. 26 марта 1854 г. цензура рассмотрела добавления и поправки к биографии Пушкина, представленные П.В. Анненковым на особое рассмотрение. 7 октября было дано разрешение на издание сочинений Пушкина, включая его биографию. Первый и второй том вышли в свет в январе 1855 г.,
18 февраля (2 марта) 1855 г российский император Николай I скоропостижно скончался во время Крымской войны. Он простудился и умер от пневмонии. Ходили слухи, что он покончил жизнь самоубийством - отравился.
26 августа 1856 г., в день своего коронования, император Александр II помиловал всех декабристов, но многие не дожили до своего освобождения
В конце 1857 г. был издан седьмой том «Сочинений Пушкина». Несмотря на крайне строгие цензурные требования, Анненков смог впервые дать русскому читателю в «Материалах» живое представление не только о Пушкине-поэте, но и о Пушкине-человеке. Добролюбов поместил в первом номере «Современника» за 1858 г. рецензию на седьмой том: «Русские, любившие Пушкина как часть своей родины, как одного из вождей ее просвещения, давно уже пламенно желали нового издания его сочинений, достойного его памяти, и встретили предприятие г. Анненкова с восхищением и благодарностью». Кроме «Современника» с положительными рецензиями на «Материалы для биографии А. С. Пушкина» П.В. Анненкова выступили почти все русские журналы 50-х годов.
П. Пышш писал о «Материалах для биографии А. С. Пушкина»: «Предприятие Анненкова было особенно ценно в обстоятельствах, среди которых жила тогда наша литература. < > Окруженная тяжелым недоверием и подозрениями, литература едва хранила нить предания сороковых годов, и издание Пушкина приобрело цену нравственного обозрения; это было притом не только напоминание, но в значительной степени и реставрация писателя, который для критики сороковых годов был величайшим явлением русской литературы и залогом ее будущего».
А в 1859 г. критик Аполлон Григорьев высказал мысль о Пушкине, которая стала доминирующей в русской и советской литературе все последующие годы:
«Пушкин - наше все: Пушкин - представитель всего нашего душевного, особенного, такого, что остается нашем душевным, особенным после всех столкновений с чужим, с другим миром».
Пушкин взошел на Олимп. Все произошло так, как предвидел поэт в сказке.
Рецензии
Гелий Николаевич, спасибо за мистификацию, узнал немного нового.
Но написал "Конька-Горбунка" всё таки Александр I после того как "всю жизнь провел в дороге, простыл и умер в таганроге" за три недели перед восстанием декабристов в 1825 г. Пушкин в 1833 г. возвращаясь с Яицкого городка с В.И.Далем и К.Д.Артюховым заезжал в "царство славного Салmана" и забрал сказку у А.П.Романова (Александра I-ого в отставке) для доработки и издания. "Руслан и Людмила" писал не Пушкин, а родственники Салmана- в миру он Кузьма-купец, поп (отец)толоконный лоб, по матери Салманов. Мать его соответственно Кузькина мать. Первые наброски "сказки" о Салтане Пушкин сделал в кишинёвской командировке, где встречался с военным топографом ГенШтаба из свиты царя Кек В.Т. (он тоже по матери Салманов)... Все "сказки" с подписью "Я там был, мёд, пиво пил..." написаны с натуры о реальных персонажах-современниках Пушкина и Александра I и коррелируют на одну и ту же местность - имение Кеков в Пензенской губернии ("три девицы под окном" и "не на небе, но земле - жил старик в одном сел", где "царь" Салmан басурманил христиан и с 1825 по 1836 г. жил и участвовал в управлении государством Александр I. С сентября 1836 Александр I появляется старцем Федором Кузьмичом в Сибири... "Царь" Салтан-Кузьма ~1773- ~1833г. Гвидон зачат в декабре 1814, а родился за рубежом к исходу сентября 1815г. трижду гостил нелегально (комаром, мухой, шмелем) у отца-купца Салтана-Кузьмы и вне "сказки" стал Дантесом-Геккерном, а Пушкин стал Дюма. Могилу "царя" Салmана я нашел!
Заявить о нарушении
и связаться с администрацией .
Ежедневная аудитория портала Проза.ру - порядка 100 тысяч посетителей, которые в общей сумме просматривают более полумиллиона страниц по данным счетчика посещаемости, который расположен справа от этого текста. В каждой графе указано по две цифры: количество просмотров и количество посетителей.